«Я не боюсь спецприемника» Катрин Ненашева — о художественном высказывании как политическом акте и о том, откуда брать мужество людям, остающимся в России

В марте московская акционистка, активистка и художница Катрин Ненашева отсидела 14 суток в подмосковном спецприемнике в Сахарово. Ее арестовали перед началом мирного ужина — группы поддержки для тех, кто тяжело переживает последствия «спецоперации».
«Гласная» поговорила с Катрин о том, как в сегодняшней России лично она подвергалась преследованиям, о будущем акционизма в нашей стране и о той силе, которая не позволяет ей уехать.
***
Вечер 3-го марта. В зале московского «Открытого пространства» суетятся около трех десятков человек. Кто-то готовит чай, кто-то распаковывает готовую еду, кто-то режет салат. На столе блинчики, оладушки, домашний джем в огромной банке — масленичная неделя в разгаре. Несколько человек побежали в магазин докупить продуктов и одноразовой посуды — людей собралось больше, чем ожидалось.
— Что у вас здесь происходит? — на ресепшн заходят двое патрульных полицейских.
— Здесь будет мирный ужин. Что-то вроде группы поддержки для тех, кто хочет обсудить свои страхи и тревоги в это неспокойное время, — объясняет девушка, которая минуту назад нарезала хлеб. Это — акционистка и психоактивистка Катрин Ненашева, она и организовала ужин.
Полицейские уходят и через несколько минут возвращаются с подкреплением: теперь с ними еще несколько сотрудников уголовного розыска. Они выборочно проверяют документы: среди собравшихся — несколько несовершеннолетних. Им угрожают задержанием и спецприемником.
Ненашева предъявляет полицейским свой паспорт, и он оказывается порван: девушка никогда не относилась к нему как к ценному документу. Паспорт затерся, помялся, бывало, что и терялся. Однажды Катрин три месяца жила без паспорта: в 2017 году во время акции, посвященной психоневрологическим интернатам, она сожгла свой предыдущий паспорт. Это был перформанс — художественное действие, означающее, что человек для системы существует только как бумажка.
Ну вот, а теперь правоохранители объясняют, что раз документ «находится в ненадлежащем состоянии», его хозяйка обязана проехать с ними в отдел для установления личности. В случае неповиновения обещают увести ее силой.
До отдела МВД по Басманному району — восемьсот метров и три минуты езды. Ненашеву везут туда под вой полицейских сирен. А мирный ужин спокойно продолжается: никому из правоохранителей больше нет до него дела.
«У них была задача меня забрать»
Катрин рассказывает:
— В первые дни после начала «спецоперации» мы с моими коллегами и соратниками были ошеломлены: совершенно не понимали, что можно делать.
Обычно я не хожу на пикеты и митинги, у меня свой формат протеста. Но быстро стало понятно, что классические высказывания в форме прямого акционизма устарели и больше не работают.
Еще в 2015-2016 годах мы с коллегами из разных городов и стран, в том числе из Украины и Белорусси, делали серию передвижных выставок «Не мир». Антивоенное искусство передвигалось по улицам Петербурга, Москвы, Минска, Риги. В последние дни февраля мы решили, что продолжим антивоенные выступления. Я запустила опен-колл для художников из разных регионов и стран и предложила делать подъездные выставки. Они прошли в нескольких городах: удалось охватить 20-30 подъездов в регионах: люди распечатывали и развешивали картины. Я тоже сделала подъездную выставку у себя на районе. Она провисела около месяца, и ее никто не трогал. Это было очень ценно: у других выставка столько не висела.


В то же время стало очевидно, что большое количество людей находится в сложной ситуации: шок, стресс, непонимание, что делать дальше. И мы с моей подругой Сашей Старость решили возобновить группы поддержки, которые делали в 2021 году во время протестов. Мы рассказывали на них про свой опыт задержаний, про то, как пережить обыденный шок и страх, как с ними бороться. Тогда мы увидели, что в этом был смысл. Такой активизм тоже работает: люди стали понимать, как действуют механизмы запугивания и куда обращаться за помощью.
После начала «спецоперации» я поняла, что людям снова не хватает точки опоры, чтобы поделиться переживаниями и обсудить дальнейшие действия. Я спросила подписчиков на своих страницах в соцсетях про встречу в формате мирного ужина, и люди откликнулись. Несколько человек спросили, как провести такие мирные ужины у себя в регионах. И самое интересное, что, в отличие от нас, они провели их в нормальной обстановке. Афиша нашего мирного ужина была публично размещена в наших личных соцсетях и соцсетях «Открытого пространства», никакой тайны в нем не было — и тем не менее к нам пожаловала полиция.
Я думаю, что это случилось из-за моих постов и моего активизма. Скорее всего, у них просто была задача забрать меня.
«Как могут задержать за группу поддержки?»
Ни во время моего задержания, ни после приезда в отдел полиции мне не предъявляли никаких обвинений. Меня не сажали в обезьянник, не надевали наручники. Сотрудники полиции сказали: «Подожди пару часов, сейчас мы посмотрим по базам и отпустим тебя».
Когда прошло около четырех часов (срок задержания без предъявления обвинения), ко мне подошел сотрудник и сказал, что мне вменяют статью 19.3 КоАП РФ. Тут я растерялась: откуда взялась статья о неповиновении полиции, если я поехала с ними в отдел добровольно?
Я очень сильно поразилась. Во-первых, мероприятие было вообще не политическое — мирный ужин и группа поддержки. Во-вторых, я делала его не на улице, а в специальном пространстве, в котором я работаю и регулярно провожу мероприятия. И этот ужин был частью моей работы — по факту, полицейские пришли ко мне на работу во время исполнения моих обязанностей. В-третьих, мне никогда раньше не предъявляли такую статью, и в этот раз я тоже не сопротивлялась, вежливо разговаривала с полицейскими. Только когда мне объявили номер статьи, я не сдержалась и очень громко заматерилась.
Я написала в «ОВД-Инфо», попросила дать мне адвоката. Но в те дни было так много задержаний, что пока свободный адвокат ехал, меня оставили в отделе на ночь в одиночной камере. Адвокат только смог передать мне передачку.
Все то время, которое я провела у полицейских, они спрашивали, за что меня задержали. Когда отвечала: «За группу поддержки», они сильно удивлялись и говорили: «Как так? Этого не может быть! Как могут задержать за группу поддержки?». Было даже ощущение, что кто-то из них меня понимал.
Но у полицейских в головах очень четкое разделение на политических и неполитических. Поэтому они практически сразу спрашивали, политическая ли я. Я отвечала, что я гражданка этой страны и что это деление мне кажется незаконным, неправильным, глупым, бессмысленным и отвратительным.
Потом был допрос.
На допросе меня спрашивали, хожу ли я на митинги, — их интересовали только митинги. Для них есть только одна форма протеста: если человек ходил на митинг, значит, правильно, что сидит, значит, так и надо.
Поэтому на этот вопрос я не отвечала — брала 51-ю статью Конституции (отказ свидетельствовать против себя) и почти не разговаривала с ними. У меня не было супержесткого допроса, не считая того, что сотрудники уголовного розыска просили показать телефон, спрашивали, с кем я переписываюсь, где работаю, живу, с кем общаюсь, какие у меня взгляды.
Когда я взяла 51-ю статью, они довольно быстро ушли. Когда на тебе эта «печать», тебе орут: «Ты политическая, ты политическая!», — ты вполне допускаешь, что могут быть какие-то избиения. И вот когда ты ожидаешь избиений, а происходит только психологическая манипуляция, думаешь: «Ничего себе, это я в сказку попала».
На следующий день, 4 марта, был суд. Только во время него я смогла ознакомиться с протоколом. Там было написано, что я организовала несанкционированное мероприятие и оказала сопротивление сотрудникам полиции. Мой общественный защитник заявлял ходатайства о приобщении фото- и видеоматериалов, на которых видно, что я не оказывала никакого сопротивления, но суд их отклонил. В апелляции отклонили и допрос свидетелей.
На следующий день после суда меня повезли в спецприемник в Сахарово. Я ожидала, что мне дадут 15 суток и даже порадовалась, что дали 14.
«Девушки из “скорой” называли нас предателями»
Когда сказали, что повезут в Сахарово, я испугалась: слышала, что там не самые лучшие условия. В 2021 году, на пике протестов, людей отправляли туда большими партиями. И расстроилась, потому что это довольно далеко. Ехать туда отдельное мучение и пытка. И потом, друзьям будет сложно ко мне приехать или сделать передачку.
Я ожидала, что «политических» в нашей камере будет гораздо меньше. Поскольку вообще это место для людей, которых депортируют. Но мест в двух больших спецприемниках в Москве (на улицах Мневники и Севастопольской) не было — в те дни сажали не только за митинги, но и за репосты, и «политических» среди соседок по камере было 80 %. В Сахарово были очень заселенные камеры: нас, например, в камере, рассчитанной на 5 мест, было 13 человек.
Сахарово вообще сейчас — главная политическая тюрьма для женщин в России.
Со мной сидела студентка третьего курса сценарного факультета ВГИКа — за ней пришли прямо в общежитие. Кажется, она разместила антивоенный лозунг и призыв выходить на улицы 6 марта. До этого она никогда не увлекалась политикой и ее никогда не арестовывали. И таких было несколько — женщин, у которых есть гражданская позиция, но раньше они никогда не проявляли политическую активность.
Сотрудники спецприемника относились к нам с издевками — шутили и прикалывались. Но вообще сейчас женщины, которые попадают в Сахарово из-за протеста, — большая часть повседневности «вертухаев». Шутки про «сколько платят» я слышала только от полицейских. Один сказал, что нам платят пять тысяч. Я еще посмеялась, что за пять, может, и вышла бы.
Режим был дурацкий: в шесть утра включался свет, особо не поспишь. Еду приносили разную, но было ощущение, что она одинаковая. Ее абсолютно невозможно было есть: баланда из хлеба, рыбных костей, непонятных ошметков, странных и не очень свежих продуктов. Еще была довольно большая проблема с сахаром и солью — потом я узнала, что и на воле с этим была проблема. Прогулка раз в день от 20 до 40 минут, на час редко отпускали.


Среди сотрудников приемника были те, кто особенно хотели проявить власть: они заставляли нас здороваться и каждый раз вставать, хотя в правилах такое не написано. И мы перестали вставать: в какой-то степени продолжали протестовать и там.
У нас не было врача. И это незаконно, когда на территории такого гигантского спецприемника нет медпомощи. Обходились своими таблетками, но несколько раз вызывали «скорую». Очень забавно было, что именно приезжавшие медики начинали все эти разговоры про «восемь лет Донбасса». Моей сокамернице вместо помощи они прочитали лекцию на тему «а где вы были восемь лет», «как вам не стыдно что-то сейчас говорить» и «какого черта вы теперь высовываетесь». Девушки из «скорой» называли нас предателями страны. На это моя сокамерница сказала, что она — патриотка, и страна для нее — это не государство, а его люди.
Спецприемник в Сахарово во время пандемии переориентировали в ковидный госпиталь. Белые стены, кругом кровати. По сути, мы жили в больничных палатах: сначала была камера побольше, потом нас перевели в другую, где было гораздо теснее.
Было очень тяжело концентрироваться и, например, читать — все ходили туда-сюда, шуршали, разговаривали. Все-таки с нами сидели не только «политические», но и женщины с алко- и наркозависимостью — и не всегда получалось комфортно взаимодействовать. Но они были с нами солидарны и очень-очень удивлялись, что кого-то задерживают за репосты или, как меня, за группу поддержки.
Мы старались создать в камере принимающее пространство, чтобы каждая могла высказываться. С нами была психотерапевтка — ей дали 15 суток после митинга. Мы всем друг с другом делились, у нас был хороший общак — коммуна в отдельно взятой камере. Проводили мини-занятия, мастер-классы, медитировали, занимались боксом.
Мы очень сплотились и понимали, что всем нам важно выжить и не сломаться, не потерять рассудок, не прогнуться под систему. Кажется, у нас получилось. Если бы не единение и дух, условия, которые мы создали друг для друга, там было бы очень тяжело и болезненно находиться. Это тесное закрытое пространство, где одни и те же люди, где не было часов, — они отняли у нас даже время, что тоже по-дурацки. Мы не понимали времени суток и не могли ориентироваться, а окошко было совсем маленькое.
Все это очень давит на людей с психическими особенностями и расстройствами, а среди нас была девушка с биполярным расстройством. Мы открыто говорили о диагнозах, делились. Иногда плакали. Я расплакалась только на медитации — она была про то, что нашу внутреннюю свободу никто не сможет отнять. Вспомнила про свои пытки. Это самое страшное, что со мной было в жизни и что до сих пор остается: больше всего я по-прежнему боюсь пыток.
«Пытки все ближе»
Это случилось со мной в ДНР четыре года назад — в мае 2018 года. Хотя я понимаю, что это вполне реалистичная история и для России 2022-го.
В 2018 году на майских праздниках мы с другом поехали на могилу к моему дедушке в Донецк. Нас задержали на выходе из продуктового магазина — в руках у сотрудников местной полиции была моя фотография. Сказали, проверка документов и личностей. Один из них был человеком, который все время писал мне во ВКонтакте и хотел познакомиться, — я очень удивилась, когда узнала его по аватарке.
Сначала допрос в отделении проходил в обычном формате. Но когда нас провели в комнату, чтобы сфотографировать и снять отпечатки пальцев, туда вошел военный в маске и с наручниками.
Нам надели мешки на головы, посадили в грузовик, включили громкую музыку, и тогда начались избиения.
Нас называли предателями, угрожали, что сейчас убьют, если мы не признаемся, что приехали в ДНР «сделать акцию»: они были уверены, что мы подосланные люди Навального и друзья Петра Павленского. При этом никаких конкретных статей нам не вменяли.
Нас привезли куда-то — в отделение полиции, «на подвал» или базу, и мы оказались с другом в разных кабинетах. Начались новые допросы, угрозы и избиения ногами. Я слышала, как пытали моего партнера, как он кричал.
В какой-то момент на меня направили автомат и сказали, что если не признаюсь, меня расстреляют. В тот момент я уже ничего не боялась — хотелось, чтобы все скорее закончилось. Эти допросы и пытки длились уже несколько часов, и я настолько устала, что мне уже было все равно.
Я спросила у офицера: почему все так, и что он хочет, чтобы я сделала?
И у него вдруг началась истерика: он начал бегать по комнате и кричать: «Сколько мы просим у Путина — когда нам дадут гражданство?». Говорил, что устал воевать и что у него нет никаких сил. Я так поняла, это были наемники. Потом он заставлял меня смотреть видео из Чечни. Говорил: «Кто поможет нам, кто спасет нас? Расскажи про нас, как нам больно и плохо». Говорил, что они утопают в нищете, показывал фотографии своего сына. Его ужасный монолог о своей жизни длился три-четыре часа — это была вспышка постравматического стрессового расстройства. Я слушала его рассказы, смотрела, как он метался по комнате. Потом он заставил меня спать на их столе для переговоров. Я не могла уснуть, и он угрожал пристрелить меня, если буду двигаться.
И я уснула. А когда проснулась и меня привели в другой кабинет, то я увидела обычных людей, которые как будто пришли на суперобычную работу: девушки были в офисных юбках. Мой партнер, которого тоже привели из другого кабинета, был на себя не похож: сплошной человек-синяк.
Началась вторая волна допросов, но нас уже сильно не избивали, а только угрожали.
И вдруг в какой-то момент они остановились и просто сказали: «Извините, мы ошиблись. Мы думали, вы хотите совершить диверсию против ДНР, думали, ваш друг хочет вас убить, чтобы эта диверсия состоялась». Нас снова повезли на машине с мешками на головах, мы ехали недолго — оказалось, все это было где-то в центре Донецка. Нас завезли на квартиру, где мы останавливались, но там, как выяснилось, тоже был обыск, и после этого хозяева сменили за ночь замки, так что мы не смогли забрать вещи.
Потом нас вывезли в Ростовскую область и бросили на границе.
Почему это случилось с нами, у меня до сих пор нет ответа. Видимо, сошлись две даты: инаугурация президента 7 мая и 9 мая, День Победы. На самом деле, конечно, мы никаких акций не планировали.
Первым я рассказала о том, что с нами случилось, двум подругам, с которыми создавали сообщество «Психоактивно». Они приняли и поддержали, но потом рассказывали, что боялись с нами встречаться, — не понимали, как на это реагировать и как обсуждать. Часть близких людей от меня отвернулась, и это было больнее всего пережить.

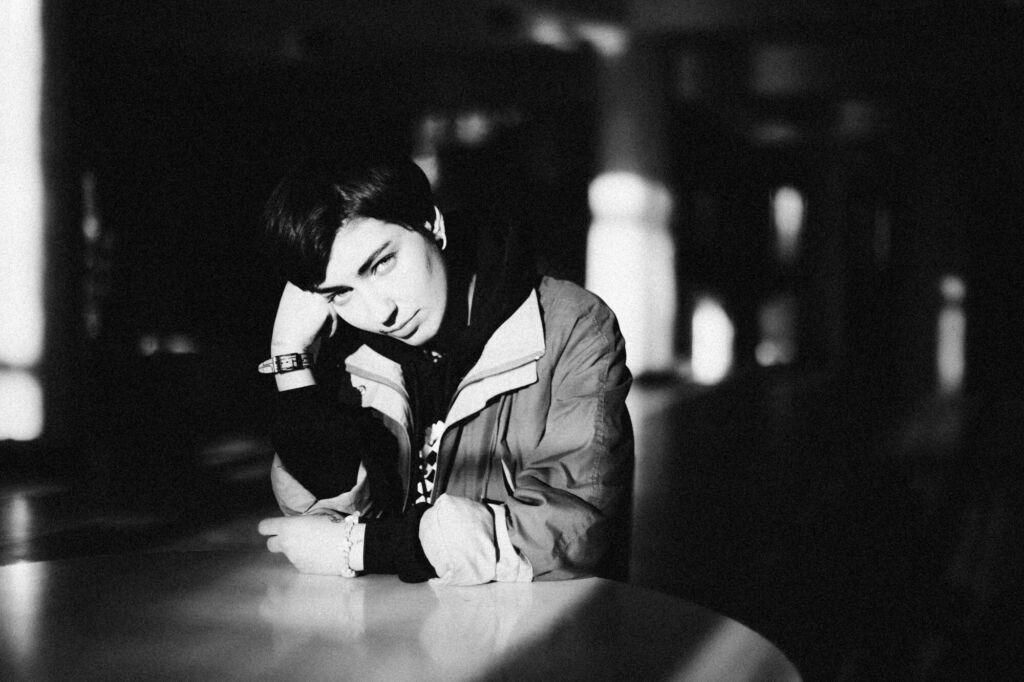
Это неприятный и сложный опыт — слышать, как пытают твоих близких. Пережить это тогда мне помогла публичная работа: в течение года мы делали перформансы, акции и спектакли на тему пыток — «Груз 300». В сети я столкнулась с равнодушием — не было хейта, но не было и поддержки. И мне по-прежнему, до сих пор не хватает информации на русском языке о том, как пережить пытки и ПТСР, особенно вместе с партнером. Обычно пишут только про авиакатастрофы или потерю ребенка, после чего, как правило, партнеры расстаются. Но не про пытки.
Хочется, чтобы вся эта история осталась где-то там далеко, в Донецке. Но кажется, что с каждым днем это все ближе к России. В прошлом году 8 марта, когда я гостила в Петербурге у подруги, меня задержали на выходе из ее подъезда, посадили в холодный автозак без окон и дверей, задержали на целый день и отвезли в Гатчину. Что это, как не пытка?
«Я стану телом этих женщин»
Когда я впервые получила сутки в 2015 году, политические спецприемники еще были в диковинку: никто из политических со мной не сидел. Одна женщина сидела за пьяную езду и еще была мигрантка, которую обвинили в хулиганстве. Это был второй спецприемник на улице Фруктовой в Москве.
Меня тогда арестовали на трое суток за мою первую же акцию «Не бойся» — я 30 дней ходила по улицам в Москвы в форме заключенной и предлагала людям сфотографироваться со мной, а потом отправляла фотографии женщинам в колонии, чтобы их поддержать.
В последний день акции я сняла с себя форму заключенной на Красной площади, и коллега (журналистка Анна Боклер) побрила меня налысо — это символизировало мое освобождение. За это нас и арестовали статье 20.2 и дали трое суток.
А перед этим, 12 июня, на День независимости России, мы в рамках этой же моей акции «Не бойся» делали перформанс на Болотной площади вместе с Надей Толоконниковой. Мы в форме заключенных шили российский флаг — я в своей перформансной форме, а она в своей настоящей.
Нас тогда практически сразу задержали, продержали в ОВД несколько часов, но никаких обвинений не предъявили и отпустили.
А вообще идея этой акции появилась во время поездки с благотворительным фондом «Река детства» (фонд помогает детям-сиротам и детям, мамы которых попали в тюрьму) — я тогда там работала — в женскую исправительную колонию № 2 в Покров. Женщины-заключенные рассказывали мне, что остаются совершенно одинокими, что их бросают родственники, у них нет друзей по переписке, им страшно выходить на волю, сложно найти работу, восстановить родительские права и социализироваться. Одна женщина попросила меня ее сфотографировать, чтобы отправить снимок родственникам, — я была с фотоаппаратом от фонда. Но сотрудники колонии запретили мне передавать ей эту фотографию: «А зачем вообще этим женщинам фотографии?». Они, якобы, будут заниматься сексом по переписке.
Меня абсолютно поразила эта история: женщин лишают идентичности и просто права существовать. Фотография же была доказательством того, что они все еще существуют — и не как тела без прав и голоса, которые гниют в тюрьме.
На обратному пути я подумала: значит, я стану телом этих женщин — закажу, чтобы мне сшили тюремную форму, надену и буду жить в ней, фотографироваться на улицах с другими людьми и отправлять эти фотки в колонию. Мне хотелось дать женщинам в тюрьмах поддержку и надежду. За месяц акции, пока я носила форму, было много болезненных эпизодов: кто-то элементарно отводил глаза, от меня отсаживались люди в метро — чувствовалось пренебрежение. Бывали резкие высказывания в духе «возвращайся обратно в тюрьму, здесь тебе делать нечего». Я-то за саму себя объясняла, что не сидела, но мне было страшно представить, насколько было бы болезненно услышать это реальной женщине из тюрьмы.
История с моим задержанием на Красной площади в последний день акции разошлась в СМИ. К сожалению, в фонде меня не поддержали: были не очень довольны и говорили, что я могу их подставить. Когда через год, в 2016-м, я делала вторую акцию — о наказаниях в детских домах — наши пути окончательно разошлись. Они сказали, что наши ценности не совпадают.
«Я пыталась разглядеть в полицейских людей»
Обостренное чувство социальной несправедливости — особенно по отношению к социально-изолированным и невидимым людям — у меня давно. С 14 лет я собирала вещи и ездила по детским домам, когда училась в институте — собирала помощь для психиатрических больниц.
В 2012 году я переехала из Краснодара в Москву и стала заниматься социальной работой, пытаясь помочь людям, которые находятся в изоляции.
На какое-то время сама устроилась в детскую психиатрическую больницу — так началась моя работа с детьми-подростками с зависимостями, ментальными особенностями и психическими расстройствами. Я видела, что люди заперты в психиатрических больницах, им там плохо и тяжело.
И потом, когда я уже работала в разных фондах и НКО, с каждым годом все больше понимала, что у людей нет никакой возможности свободно общаться, работать, открыто говорить о своих диагнозах. Они оказываются ненужными и невидимыми, и надо как-то преодолевать эту стигматизацию.
1 мая 2018 года мы с психоактивистами вышли в первый раз на метпрайд. В России никогда такого не было.
Мы хотели показать лица, образы и истории людей с диагнозами. Собрали колонну около 30 человек с самыми разными психическими расстройствами и двинулись вместе с общим первомайским шествием. Нас всех тогда очень жестко задержала полиция. Формальная причина была: несоответствие тематике демонстрации.
Так мы поняли, что о проблемах психического здоровья очень важно и нужно говорить, особенно когда права этих людей так активно нарушаются. Когда полицейский не понимает, что у любого человека в автозаке может быть ментальная инвалидность или может начаться паническая атака.


До какого-то момента я пыталась разглядеть в полицейских людей, но потом перестала вести с ними диалоги, потому что поняла: это бессмысленно. Я ведь тоже работала в государственной психиатрической системе (в детской психиатрической больнице № 6 с 2017 по 2019 годы): сделала все, что могла, а потом вышла из нее. В этой системе было много вранья, зла и стукачества. И мне очень сложно найти какое-то оправдание для людей, которые продолжают поддерживать эту систему в таком формате, в котором она существует.
Но то задержание на метпрайде активизировало и в каком-то смысле разозлило многих, кто касался психиатрической темы. Люди стали выходить на пикеты, устраивать протесты, проводить просветительские мероприятия. Так появилось движение «Психоактивно» — объединение активистов в поддержку людей с ментальными особенностями и психическими расстройствами.
«Когда тебе максимально плохо»
У меня самой — несколько диагнозов. Поскольку я занимаюсь психоактивизмом и помогаю людям, то считаю важным про это говорить.
В первый раз я обратилась к психиатру в 2018 году из-за пыток, и мне впервые поставили диагноз: пограничное расстройство личности. Из-за пыток мне до сих пор трудно выстраивать доверие и создавать новые партнерские отношения. Я тогда не хотела пить таблетки и думала, что мой диагноз — полная ерунда. Но депрессия продолжала меня охватывать, и я, видимо, привыкла с ней жить.
Акционизм, социальная работа и активизм — дело всей моей жизни, которому я полностью отдаю себя. Бывает, что акции и перформансы придают сил и дают ресурс, но иногда больше забирают. Например, одна из моих последних больших акций «Поругайся со мной» — когда я говорила с людьми, пережившими домашнее насилие, — очень опустошала. Хотя мы делали инфодоски в подъездах о том, что делать в случае насилия (до «спецоперации» я успела сделать три-четыре таких акции), это было терапевтично.
Есть и много чисто физических моментов. Например, после того, как в 2016 году я носила на себе кровать с утра до вечера, у меня начались проблемы с позвоночником. А после сидения в клетке во время акции «Груз 300» на улицах Москвы у меня были сбиты колени, поцарапаны ноги, я заболела.
В какой-то момент я стала запивать свои сложные состояния алкоголем — справлялась так со стрессом. У меня развилась сильная зависимость и я довольно быстро ее осознала. Но для меня не была очевидной необходимость что-то менять: без алкоголя я не могла прожить и дня, очерчивала им границы дня — без него не получалось отключиться от повестки и переживаний.
Когда я решила бросить пить, алкоголь заменили наркотики. У меня была наркозависимость — я этого не стесняюсь, — но я из этого выбралась.
В 2021 году, во время протестов, у многих моих друзей — художников и активистов — прошли обыски. На этом фоне у меня началась сильная мания преследования. Мне тогда казалось, что пытки могут повториться. Через некоторое время подтвердилось, что у меня ПТСР.
Таблетки накладывались на наркотики, и летом 2021 года у меня впервые случился психоз, связанный с длительной депрессией. Он абсолютно разделил мою жизнь на «до» и «после». Меня отправили в частную психиатрическую больницу. Я не могла писать, читать, связывать мысли в слова, я чувствовала себя овощем. Потом за мной ухаживали друзья, какое-то время я жила у них. После этого я столкнулась с постпсихотической депрессией — не могла встать с кровати около двух месяцев и поняла, что значит болеть и находиться практически в недееспособном состоянии. Это один из самых болезненных для меня опытов наравне с пытками.
Период восстановления длится до сих пор, и это сильно ограничивает мою жизнь. Я ничего не употребляю уже полгода. Поняла, что мне нужен каминг-аут: я не видела постов, в которых бы активисты и художники рассказывали про такой опыт, хотя это повсеместная история.
На мой постотозвалось много людей, и я поняла, что нужны группы поддержки.
«Грустно, если бы разбрелись и не попытались»
Первая группа поддержки была намечена на 24 февраля, но нам пришлось ее отменить: люди написали, что пойдут на площадь. Потом я попала в спецприемник, и все застопорилось. Мы организовали группы только в апреле: две первые группы поддержки «Я остаюсь» прошли 9 и 16 апреля. Основные запросы: одиночество, страх будущего, отсутствие опоры, непонимание, что делать дальше, невозможность обсуждать происходящее с близкими, апатия, чувство безысходности.
Сейчас я работаю в благотворительном фонде «Жизненный путь», и после ареста мне было важно, что там, на работе, меня тоже поддержали.
Пока я сидела в спецприемнике, около 40% моих знакомых уехали из России. Когда я вышла, вокруг стало больше растерянности, страха, ужаса от непонимания, что делать дальше. Поэтому разговор про страхи так важен.
Не очень понятно, кто здесь в конечном итоге останется, но нам нужно объединяться.
Я верю в комьюнити: если люди будут обмениваться опытом друг с другом, это поможет сплотиться и пережить сложные времена. Было бы грустно, если бы все так быстро разбрелись и не попытались.
Меня поразило, что на наш мирный ужин 3 марта пришло так много ребят младше 18-ти. Это проблема: им сейчас трудно найти принимающее пространство, где они смогут понять, что любые их чувства нормальны. В семьях же говорить о «спецоперации» или не принято, или не у всех одинаковые взгляды.
Еще я сейчас поддерживаю феминисткое антивоенное сопротивление. Это для меня другой уровень взаимодействия с протестной реальностью, это психологическая поддержка. Это то, что помогает аккуратно и осознанно действовать тем, кто остается и продолжает. Тут не единоразовый, а последовательный протест. Сопровождение в этом случае очень важно. Оголтело толкать людей на улицу я не вижу смысла, но локальные протесты — пожалуй, да. Когда большое публичное пространство закрыто, остается пространство жилых кварталов и дворов — там, наверное, что-то еще можно делать.
«Деятельность акционистов нежелательна»
То, что меня посадили на две недели в спецприемник абсолютно ни за что, говорит о том, что деятельность акционистов в России нежелательна. Это было актом запугивания — «посиди, помолчи, подумай» — и не только акционистов, но и простых ребят, которые выходят на акции нерегулярно.
В России осталось совсем мало акционистов, художников-акционистов еще меньше. И все сильно поменялось: если в 2015 году было трудно что-то делать и были задержания, то сейчас после принятия закона о дискредитации Вооруженных Сил РФ непонятно, как что-то вообще можно говорить.
Но я занимаюсь социальными проблемами и знаю: важно поддерживать тех, кто находится в закрытых учреждениях, — им особенно трудно. У меня есть мысли сделать акции про ПНИ и домашнее насилие над детьми-подростками. Но, во-первых, мои перформансы обычно рассчитаны на месяц, а сейчас у меня глубочайший творческий кризис. Я пока не знаю и не понимаю, в каком формате это можно сделать: тоталитаризм крепчает во всех формах, и акционизм в нынешней России — это русская рулетка. А во-вторых, мне неясно, насколько люди готовы сейчас в этих условиях к социальной повестке.
Мои друзья сильно напуганы и склоняют меня уехать каждый день. Говорят, что скоро за мной придут и мне дадут какую-то статью. Это вносит сумятицу.
Я для себя решила, что было бы очень странно и несправедливо уехать. Мне хочется быть последовательной.
Я семь лет работаю с изолированными и невидимыми социальными группами в закрытых учреждениях. Бросать их при первой возможности — совершенно нечестно и непоследовательно с точки зрения совести. Да, какое-то время я не ходила по интернатам, но планирую ходить и привлекать к этому людей, чтобы помогать переживать происходящее тем, кто внутри, и включать в это тех, кто снаружи. Это тоже антивоенный жест в каком-то смысле: у людей в закрытых учреждениях нет возможности влиять на происходящее или даже выражать свое мнение.
Для меня вопрос отъезда в целом не стоит. Власти хотят выдавить думающих и активных, людей, которые готовы противостоять. Но почему я должна сворачивать деятельность и бросать других?
Хотя я плохой пример: у меня атрофировано чувство опасности и страха, и люди в основном меня не понимают, когда я так говорю. Многие не понимают, что я не ощущаю себя в безопасности уже семь лет. Художники и активисты много лет находятся в России под громовым облаком, и не сказать, что для нас что-то изменилось глобально. Конечно, сейчас контекст сильно меняется и появляются новые законы, которые подлавливают в самый неожиданный момент. Но кардинально для меня в состоянии небезопасности особенно ничего не поменялось. Если бы, конечно, пришли ко мне домой, наверное, это было бы совсем уже вторжением.
Но уезжать рано: думаю, что пока речь не зайдет о безопасности моих близких, я точно останусь. А в противном случае буду думать.
У моих родителей немного другая философия, но и мама, и я наполовину украинки, и все происходящее — болезненная история для семьи. Политику у нас в семье не обсуждают, так было с детства. Но мой арест сильно повлиял на родителей: я им говорила, что меня могут задержать — и в тот же день меня задержали. После этого мама подписалась на либеральные медиа и, когда я была в спецприемнике, рассказывала мне по телефону про новые репрессии. Папа сначала говорил: «Зачем люди выходят на митинги? Пускай идут работать на завод». И про восемь лет говорил. Но потом, после моего ареста, активно предлагал мне уехать.
Я понимаю, что ко мне могут прийти опять, и я готова к этому. Я не боюсь спецприемника или тюрьмы, я боюсь только пыток. Я бы не хотела какого-то большого уголовного срока — я не готова и не хочу сидеть ни за что. Понимаю, что на свободе смогу сделать больше полезных вещей. Просветительство и помощь тем, кто хочет разобраться со своими страхами, — тут я вижу сейчас больше всего запросов и больше всего эффекта.


Активистка Катерина Кильтау* — о том, почему брутальная политика должна остаться в прошлом

История альпинистки из Кабардино-Балкарии — женщины, которая всегда на высоте

Руководитель шелтера «Мамин дом» Алсу Кривель — о том, почему женщинам нужно уметь выбираться из кризиса самостоятельно


Зачем Галина Арапова уже четверть века защищает права журналистов в России
